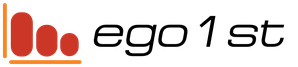20.02.2019 , Сашка Букашка
Арест имущества -это ограничение владельца в возможности им распоряжаться. Обычно это мера, применяемая при принудительном взыскании долгов по налогам. Расскажем подробнее, что такое наложение ареста на имущество и как проверить, не находится ли жилье под обременением?
Часто случается так, что люди не могут (или не хотят) платить свои долги. Один одолжил кругленькую сумму на развитие бизнеса, а бизнес прогорел. Другой накупил в кредит кучу дорогих вещей и теперь еле сводит концы с концами. А третий уже год не работает и не платит бывшей жене . И у многих в таких случаях возникает вопрос: не арестуют ли за долги жилье? Попробуем разобраться, когда стоит реально опасаться за свое имущество.
Что это такое
Арест имущества должника включает запрет распоряжаться этим имуществом. А при необходимости - ограничение права пользования имуществом или его изъятие. В отношении жилья это подразумевает наложение запрета на проведение каких-либо действий с недвижимостью. Квартиру, находящуюся под арестом, нельзя:
- обменять;
- продать;
- подарить;
- заложить;
- сдать в аренду и т. п.
При этом владелец, как правило, может пользоваться своей квартирой, то есть жить в ней. Исключение составляют ситуации, когда пристав-исполнитель налагает арест в целях обращения взыскания на имущество должника. В этом случае от должника могут потребовать освободить жилье, а сама квартира выставляется на торги.
Помимо наказания должников, практикуется наложение ареста на имущество в уголовном процессе. Арест в этом случае налагается на имущество подозреваемого или обвиняемого.
Обратите внимание, что арест может быть наложен только на жилое помещение, находящееся в собственности. Если ваши права нарушены - .
Когда жилье может быть арестовано
Например, перед выходом на пенсию Анна Аристарховна сделала в квартире хороший ремонт, купила дорогую мебель и собралась жить на заслуженном отдыхе в свое удовольствие. Но радость была недолгой - ее сосед сверху Степан Приходько уехал на и забыл закрыть горячую воду. Сумма ущерба, причиненного имуществу Анны Аристарховны, составила почти миллион рублей. Платить Приходько отказался, и пенсионерка была вынуждена . А вчера она узнала от соседей, что Степан срочно продает жилье и собирается уезжать из города. Теперь Анна Аристарховна готовит заявление в суд о наложении ареста на квартиру Приходько в качестве меры по обеспечению ее иска, иначе своих денег она рискует не получить.
Или еще пример. Семен Пупыркин алименты бывшей жене не платит уже два года - как с работы за пьянку выгнали, так и не платит. Имущества у него нет, одна «хрущевка» пополам с матерью. Недавно они решили продать жилье в городе и переехать жить в деревню. Но в МФЦ Семена огорошили: оказывается, приставами наложен арест доли квартиры за неуплату алиментов, и продать свою половину теперь он не сможет, пока не погасит задолженность.
Какое имущество нельзя арестовать
Согласно ст. 79 ФЗ № 229 от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», можно наложить взыскание на любое имущество, кроме того, с которым такие действия запрещены. Так какое имущество не подлежит аресту судебными приставами?
На этот вопрос может ответить ст. 446 ГПК. Согласно ей, нельзя изъять единственное жилье должника, а также землю, на которой оно расположено. В качестве единственного жилья подразумевается жилое помещение или его часть, которые являются единственными пригодными для жизни. В связи с этим возникает вопрос: если арест уже наложен, можно ли признать его незаконным? Увы, в законодательстве нет конкретного ответа, а судебная практика довольно противоречива. Часто арест рассматривается как самостоятельная мера принудительного исполнения, которая не является взысканием и не ведет в этому. Следовательно, в этом случае арест жилья правомерен.
Как снять арест с квартиры
Обременение будет снято с жилого помещения только после устранения оснований его наложения. Поэтому сначала важно определить причину ареста квартиры. Например, если он был наложен за долги по ипотеке, следовательно, снятие обременения жилья произойдет, когда его владелец заплатит долг банку. А если жилье арестовано по определению суда в качестве меры по обеспечению иска, то в случае принятые меры сохранятся до вступления в законную силу решения суда. В некоторых случаях судья может одновременно с принятием решения вынести определение об отмене обеспечительных мер. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.
По закону снять арест имеет право лишь тот орган, который его наложил, то есть суд или служба судебных приставов. Следовательно, когда причина, по которой было наложено ограничение, будет урегулирована, владельцу недвижимости необходимо обратиться в тот же суд (или тот же отдел ФСПП), который принимал соответствующее решение.
После того как запрет будет снят, решение об этом необходимо предоставить в ЕГРП для внесения сведений о снятии с квартиры обременения.
Глава Зубцовского района был задержан в мае по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, в отношении него избрана мера в виде заключения под стражу на два месяца - до 13 июля.
По предварительным данным, Сергей Широков хотел получить 20 млн рублей за незаконное согласование выделения земельного участка под строительство полигона ТБО. По информации жителей Зубцова, задержание происходило в офисе магазина главы района - «Автомир». Якобы при пересчете денег, первого транша в размере 10 млн рублей, в кабинет забежали бойцы с оперативниками и взяли его с поличным. Сергей Широков был в шоке от произошедшего, как, впрочем, и все жители, которые, казалось бы, смирились с произволом на территории района. «Караван» выяснял, как был осуществлен приход к власти недобросовестного руководителя, что происходило все эти 4 года правления Сергея Широкова и где гарантии, что на его место не придет такой же махинатор.
Розыгрыш и изменения в уставе: бизнес службе не помеха
Напомним историю восхождения на политический Олимп Сергея Широкова.
Ранее он был заместителем председателя собрания депутатов Зубцовского района Василия Протченко, который руководил 2 года после москвички Светланы Автономовой (также правила районом чуть более 2 лет - с 2009 по 2011 год). Однако в 2013 году произошла любопытная история, связанная с розыгрышем главы Василия Протченко - неизвестные позвонили Василию Константиновичу, представившись помощниками полпреда по ЦФО Александра Беглова, и вынудили рассказать всю подноготную об организации выборов. Впоследствии запись была выложена в интернет, и Протченко подал в отставку. Есть предположение, что к этому событию приложили руку вышедшая из декрета управляющий делами администрации района Алла Виноградова и некоторые депутаты, в том числе, возможно, и сам Широков, заинтересованный в смещении политического противника.
Тогда-то, в сентябре 2013-го, Сергей Широков и стал временно исполнять обязанности главы района.
Специально для будущего главы были подготовлены изменения в Устав Зубцовского района. Дело в том, что и Василий Протченко, и Светлана Автономова были главами на неосвобожденной (платной) основе, однако Сергей Широков имел свой бизнес, и для совмещения приятного с полезным необходимо было сделать должность главы на освобожденной основе, тогда на главу не будет распространяться запрет на ведение бизнеса.
Новый состав депутатского корпуса района был сформирован в сентябре 2014 года. Из этих депутатов уже в октябре и был выбран председателем собрания депутатов Сергей Широков. Избирался он от местного отделения партии «Единая Россия», членом которой является по настоящее время, несмотря на заключение под стражу. Между тем он один из тех избранных депутатов, кто получил на выборах наименьшее количество голосов избирателей - 133 (у иных - 284, 292 и т.д.). Руководить аппаратом собрания депутатов Широков взял Аллу Иванову, в свое время уволенную Василием Протченко.
Уже после официального вступления в должность Широков начал проявлять способности к активной продаже земельных участков на территории Зубцовского района: при нем продолжили расти поместья на берегах рек Волга и Шешма, а также на Вазузском водохранилище. Основательницей данного земельного «бизнеса» называют главу-москвичку Светлану Автономову, так и не ставшую «своей» для жителей района.
Вопреки результатам социально-политических опросов и мнению жителей района, тогдашний губернатор Шевелев активно поддержал кандидатуру Широкова, и областное правительство не предпринимало никаких мер по налаживанию ситуации в районе.
Главы поселений в загоне, а депутатов все устраивает
После избрания на должность главы района Сергей Широков предложил в главы администрации Евгения Егорова, руководителя местного отделения Пенсионного фонда. У жителей он получил кличку «физкультурник», так как много лет являлся учителем физкультуры в зубцовской школе N№1. На фоне такого «руководителя» управляющий делами Алла Виноградова выглядит звездой, что и позволяло ей, по убеждению жителей Зубцова, негласно руководить Евгением Егоровым и по настоящий момент.
Сергей Широков ставил в финансовую зависимость глав поселений, изменяя положение о бюджетном процессе, значительно сокращая межбюджетные трансферты в бюджеты поселений из бюджета района. Также все выборы глав и депутатов поселений максимально контролировались.
Отсутствие какой-либо работы со стороны администрации Зубцовского района с момента избрания Сергея Широкова и бездействие областной власти давали о себе знать. Район на протяжении нскольких лет не участвовал практически ни в одной значительной государственной программе на условиях софинансирования. Жители так и говорили - ничего не происходит, жизнь как будто остановилась.
Администрация района не интересовалась положением дел в сельских поселениях. В отличие от всех предыдущих правителей, Широков и Егоров ни разу не выехали с рабочим визитом за пределы города. «Исполнение более 35 полномочий лежит на плечах поселений, а район снимает только сливки, ничего не делая», - говорят некоторые главы.
Терпеть это стало невозможно. Криком души стала речь главы Ульяновского сельского поселения на «публичных» (сгоняли только бюджетников) отчетах Широкова и Егорова о проделанной работе за 2016 год (видео доступно на ютубе). Так, в 2017 году подали в отставку главы Княжьегорского и Вазузского сельских поселений. Некоторые главы также готовы сложить с себя полномочия.
Тем не менее, в отличие от глав поселений и жителей района, депутаты Собрания депутатов ни разу не посмели негативно оценить работу главы района Сергея Широкова - не было ни одной неудовлетворительной оценки по результатам отчетов о деятельности.
Налицо - тотальный управленческий кризис в Зубцовском районе. Отсутствие работы с кадрами, нежелание впускать грамотных управленцев, обширные личные связи и бездействие в решении проблем - вот столпы, на которых стоят в настоящее время органы власти Зубцовского района.
Жители района ждут перемен
Сейчас перед депутатами района встает вопрос: «Что делать дальше?» Есть несколько вариантов.
Маловероятно, но не исключено, что от главы района может поступить заявление об отставке по собственному желанию. Еще менее вероятен второй вариант: часть депутатов районного собрания выходит с инициативой об удалении главы в отставку, за которую должны проголосовать 2/3 от избранных депутатов - здесь сложность состоит в процедурных вопросах, таких как уведомление главы и его право ответа, да и основания принятия такой инициативы ограничены законом. Третий вариант - вступление в силу обвинительного приговора суда и назначение официальных выборов.
По этим трем вариантам выборы председателя собрания и главы района в одном лице должны происходить из состава этих же депутатов.
Четвертый вариант - преобразование муниципального образования в городской округ. Пятый вариант - самороспуск районного собрания. Как раз сейчас активно продвигается реформа преобразования муниципальных районов в городские округа, как это происходит в Московской области. Два эти варианта могут быть рассмотрены губернатором Тверской области как альтернатива заявлению самого Широкова об отставке. При четвертом и пятом вариантах, в случае выбора главы района, вступят поправки в устав, при которых глава исполнительно-распорядительного органа исполняет также полномочия главы района (т.н. система «один глава»). В любом случае избрания нового главы отбором кандидатов в главы будет осуществлять комиссия, 50% членов которой назначит губернатор, а остальные 50% - депутаты. Сейчас, на время отсутствия Сергея Широкова, согласно регламенту, временно исполнять полномочия (до избрания нового главы) будет его заместитель Игорь Борисович Бабушкин, не менее печально известная в Зубцовском районе фигура, чем Сергей Широков.
Хочется отметить главное, что характеризует нынешнего (пока еще) главу Зубцовского района: никто из жителей и сотрудников администраций (с кем мы разговаривали), как бы они ни обижались на предыдущих глав, о Сергее Широкове не смогли сказать ни одного доброго слова.
Жители района сейчас ждут перемен к лучшему, ждут полной смены управленческого аппарата, ждут молодого, активного и профессионального руководителя с достаточным опытом и багажом знаний для вытаскивания Зубцовского района с того экономического и социального дна, на котором он пребывал последние несколько лет. Губернатор должен обратить внимание на Зубцовский район и принять жесткое волевое кадровое решение.
P.S. О Зубцовском районе становится слышно, только когда там происходит нечто неординарное. На сайте администрации в разделе «Новости» полнейшая пустота - там нет даже фотографий с Дня победы или хотя бы фото главы. Абсолютная непубличность, закрытость власти говорит об отсутствии какой-либо ответственности перед жителями. А откуда ей взяться, если глав муниципалитетов не выбирают, а назначают? Губернатор Игорь Руденя в отчете за 2016 год перед депутатами ЗС озвучил свою принципиальную позицию по этому вопросу: выборность якобы не обеспечивает эффективность. Однако вряд ли может губернатор проконтролировать все районы Тверской области, особенно удаленные, где главы сидят тише воды ниже травы, подобно двоечникам на последней парте. Сколько еще таких «тихих омутов» в регионе, где, как известно, «черти водятся»?
Во время протестной акции 12 июня на Марсовом поле в Петербурге задержали, а затем арестовали на 10 суток и оштрафовали на 12 тысяч рублей сотрудницу журнала «Собака.ру» Ксению Морозову. Сейчас срок ее ареста как раз подходит к концу. Попутно вскрылись факты, которые превращают этот сюжет в значимое для всей России событие. По крайней мере, для всего журналистского сообщества.
Дело в том, что Ксения, похоже, действительно пришла на митинг протестовать. По крайней мере журнал «Собака.ру» о протестах так ничего и не написал. Среди его последних новостей — сообщение о кастинге котов в Эрмитаже, фотообложки Playboy и обзор винного бара. «Собака.ру», прямо скажем, не тот журнал, что отправляет корреспондентов на антиправительственные митинги. Даже заявление в защиту своей сотрудницы журнал сделал очень аккуратно. Сразу подчеркнул, что та и впрямь была на несанкционированном митинге, и решение суда оспаривать не собирается.
Журнал пространно назвал Ксению Морозову «сотрудницей редакции». Не журналистом, не корреспондентом и не репортером. Более того, в заявлении сказано, что Ксения Морозова — SMM-менеджер. То есть человек, отвечающий за продвижение журнала в соцсетях. Специалист по марктингу вообще-то.
При этом оказалось, что у Ксении Морозовой была с собой пресс-карта, которой, по закону, достаточно, чтобы доказать кому угодно — ты на журналистском задании.
Мне интересно: любой сотрудник журнала имеет право на иммунитет от полицейского преследования, недоступный обычным гражданам? И любому ли из них положен оберег в виде пресс-карты? Бухгалтеру, например, положен? Может быть, бухгалтер этого журнала тоже был на митинге и теперь арестован, но мы про него ничего не знаем.
И если SMM-менеджеру журнала полагается иммунитет, не нужно ли выдавать пресс-карты маркетологам, например, птицефабрики?
На сайте журнала «Собака.ру» можно найти несколько достойных публикаций, подписанных Ксенией Морозовой. Почему журнал не считает нужным назвать сотрудника тем словом, которое он заслуживает? Если человек делает интервью, репортажи, новости, то он журналист. В журнале для Ксении Морозовой не хватило журналистской ставки? Или журнал вообще избегает необходимости именовать своих сотрудников журналистами, чтобы потом не пришлось за них отвечать? Или журнал «Собака.ру» юридически не журнал, а, например, пиар-агентство?
Почти никогда нельзя сказать, где в случае журналиста нарушаются права человека, а где — право на свободу слова. Поэтому в любом правовом государстве журналистов принято без очень веских причин не трогать. Журналиста проще купить. Выпроводить в эмиграцию. Убить, наконец. А арестовать сложно, потому что общество, каким бы слепым и глухим оно ни было, очень хорошо чувствует: там, где арестовывают журналистов, остальным надеяться не на что.
И журналист в правовом государстве отлично понимает, что залог его личной и профессиональной безопасности — только лишь неравнодушие общества. Поэтому в странах с давними демократическими традициями политическая и идеологическая ангажированность журналиста презирается. И есть много журналистов, которые в боязни прослыть ангажированными даже на выборы не ходят. Подчеркнуто не голосуют.
Вопрос свободы журналиста — вопрос безопасности всего общества. Безопасность журналиста во время военных, политических конфликтов, гуманитарных катастроф — это вопрос интересов общества. Общество заинтересовано в полной и свободно распространяемой информации.
Но журналист, который идет на митинг митинговать, а не писать репортаж, отвечает интересам общества? Может этот журналист гарантировать объективное информирование? Почему тогда общество должно его защищать? И почему такой журналист должен иметь привилегию защиты от репрессий?
Положение журналистов в России уже не просто критично — оно трагично. И даже настоящие журналисты особого иммунитета от преследования властью давно не имеют. В такие времена любые случаи злоупотребления журналистским статусом идут во вред всему профессиональному сообществу.
Проблему раздачи журналистского иммунитета активистам и политической ангажированности независимых журналистов обсуждать начали в 2011 году. Когда по всей России журналисты не просто информировали, но и агитировали граждан выходить на опасные митинги. Граждан тогда задерживали, а журналисты прикрылись пресс-картами. Так было в декабре 2011-го. Так было в следующем году на Болотной. Так было в день оглашения приговора по делу «Кировлеса». Так было, наконец, 26 марта и 12 июня.
В нашей стране журналистам не оставили места для маневра. В том же Петербурге считают, что на митинги нужно получать аккредитацию и носить специальные жилеты. Чтобы, стало быть, ОМОН смог отличить зависимых от независимых. Да, в таких условиях надо защищать само значение пресс-карты. И само право журналиста беспрепятственно работать там, где он хочет. Дела Морозовой и Идрисова, пусть даже они пришли на митинг отнюдь не с журналистскими намерениями, способны отбросить права всех журналистов далеко назад.
Но они же должны привести профессиональное сообщество в чувство. В результате многолетнего давления на журналистов, обесценивания всего института журналистики государством у народа никакого уважения к журналистам не осталось. Более того, россияне сейчас в основном уже не понимают сути профессии и значения свободы слова. Прикрытие от полиции удостоверением в такие времена — это преступления против профессии. Потому что дискредитирует журналистов в глазах народа и той же полиции. Думаете, люди не видят, как стоящий с ним на митинге журналист скандирует те же лозунги, но ОМОН его не бьет и выпускает на свободу? Думаете, полиция и судьи не читают новости и не знают, что независимый журналист Винокурова организовывает митинг? Что Александр Плющев агитирует и задерживается как гражданин, а потом выходит из автозака как журналист? Думаете, наконец, что никто в Петербурге не знает, что журнал «Собака.ру» пишет про моду, а не коррупцию, и поэтому не мог отправить корреспондента на задание? Тем более маркетолога. Не надо дурить людям головы.
Неравнодушие людей — единственный гарант хоть какой-то журналистской неприкосновенности. Люди будут следить за судьбами журналистов, пока те хоть как-то защищают их интересы. Когда станет ясно, что пресс-карты нужны журналистам для защиты самих себя, общество ко всем к ним, то есть к нам, окончательно потеряет интерес. И заголовки вроде «Очередного журналиста задержали на митинге» никого больше волновать не будут.
Анастасия Миронова,
специально для «Новой»
«Понимаю тех, кто хочет защититься от произвола»
Зачем журналисты ходят на протестные акции
Начну с того, что граждане имеют право мирно и без оружия собираться там, где они захотят. Те, кто отдает приказ задерживать, причем порой весьма жестко, людей собравшихся таким образом, на мой взгляд, — преступники, очевидно превышающие свои должностные полномочия. Не говоря уж о многочисленных нарушениях при задержании, фальсификации протоколов, формальном судебном рассмотрении и т.д. Обсуждая работу и поведение журналистов на массовых акциях, нужно понимать и называть вещи своими именами: в подавляющем большинстве задержания на этих акциях ничего общего с законностью не имеют и являются полицейско-судебным произволом.
Разговор о цеховом начну с себя. В тексте Анастасии Мироновой упомянуто, что «Александр Плющев агитирует и задерживается как гражданин, а потом выходит из автозака как журналист». Это просто неправда, и, если этот факт изложен в корне неверно, у меня есть сомнения относительно других фактов, упоминающихся в этом тексте.
Надеюсь, что неизвестная мне Анастасия Миронова просто поленилась проверить обстоятельства моего задержания 26 марта. Тогда с моей коллегой Таней Фельгенгауэр мы наблюдали за тем, что происходит у кинотеатра «Пушкинский". Я вел прямую видеотрансляцию в Facebook, то есть занимался прямой журналистской работой, показывая людям то, что происходит. Для человека, не поленившегося пролистать мою ленту в Facebook до этого дня, все станет очевидным: агитировал ли я за что-нибудь, и как меня забрали, и что вышел я не из автозака, а лишь спустя 6 часов после задержания — из ОВД на окраине Москвы.
Я действительно бываю на массовых акциях, но, разумеется, не как участник. Единственное исключение (акции в защиту прав журналистов) — пикеты после жестокого избиения Олега Кашина.
Я работаю ведущим эфира на радио «Эхо Москвы» и часто обсуждаю протестные акции в эфире. Я считаю необходимым посмотреть на все своими глазами: сколько народу было, с каким настроением пришли, как себя вели, как действовала полиция и т.д. Редакция использует мои фотографии, твиты и трансляции для сайта «Эха Москвы». Я, как и мои коллеги, охотно выхожу в эфир с репортажами, но все же главная цель — посмотреть, чтобы знать и понимать. И это тоже журналистская работа, не только опубликованные репортажи и другие материалы.
Более того, журналист, как и любой гражданин, может выражать свою политическую или общественную позицию. В этом случае он идет на акцию как обычный человек, оставляет удостоверение дома и может нести транспаранты и скандировать лозунги. Но даже если он прихватил его с собой, в этом случае он не прикрывается удостоверением во время задержания и оформления.
Хотя, надо признать, я понимаю людей, которые любыми средствами пытаются избежать ареста, поскольку аресты эти незаконны, и, как правило, базируются на липовых протоколах. Я своими глазами видел, как задерживают людей, не нарушающих порядок, даже не скандирующих, без транспарантов. Вся их вина состояла только в том, что они оказались в этом месте. Надо ли говорить, что в протоколах у них оказывались нарисованными и лозунги, и, бывало, транспаранты, которых те в глаза не видели. Так что, понимаю тех, кто пытается чем угодно защититься от этого произвола.
Власти лукавят, когда говорят, что журналисты прикрываются пресс-картами. Очевидно, что журналисты как раз мешают творить беззаконие, и власти стремятся сделать все возможное, чтобы снизить их число на акциях. Задерживать, ошельмовывать, требовать каких-то безумных аккредитаций на несанкционированные мероприятия, надевать яркие жилеты. На акцию 12 июня я пришел в футболке, на которую крупно отсканировал свою пресс-карту — просто, чтобы посмеяться над этим стремлением оградиться от внимания прессы.
Разговоры о том, что журналисты «прикрываются удостоверениями» — нашистская тема, вброшенная в начале десятых годов. Как раз для того, чтобы увести разговор о произволе полиции и властей. Вброс этот, как видим, время от времени, сознательно или по глупости повторяется. Давайте обсудим действительно значимые проблемы.
Александр Плющев,
журналист
«Мы — нонкомбатанты»
Почему журналистам нельзя поддерживать одну из воющих сторон
Мне кажется, автор смешивает совершенно разные ситуации и проблемы в одну кучу. Еще во время митингов 2011—2012 годов многим журналистам хотелось принимать в них участие, а не освещать их. А вот ряд активистов, наоборот, выдвигал претензии журналистам, которые приходили на акции работать, искренне недоумевая, чем написание репортажа для СМИ отличается от публикации отчета в блоге и почему у прессы есть удостоверения, а у них нет. Были и случаи злоупотребления, когда активисты всеми правдами и неправдами пытались достать себе пресс-карту, считая, что она является гарантированным способом решения проблем с полицией.
Тогда представители профессионального сообщества пришли к очевидному разумному консенсусу: если идешь на митинг участвовать, пресс-карту оставляешь дома. Если идешь на митинг работать — не берешь плакат, не скандируешь, не носишь символику. Активистам тоже вроде бы все давно популярно объяснили, и случаев злоупотребления пресс-картами стало сильно меньше.
При этом пресс-карта не является гарантией непопадания в полицию. На каждом несанкционированном митинге происходят задержания работающих журналистов, несмотря ни на какие пресс-карты. А уж сколько за эти годы правоохранители побили фотоаппаратуры, вообще не поддается учету. Полиция в ответ на претензии рекомендует одевать на такие акции журналистов в спецодежду, что очень мешает работе, а несколько лет назад была вообще специальная пресс-карта от МВД Москвы, которые давали журналистам крупных изданий именно для освещения несанкционированных мероприятий.
Теперь о журналистах и их политической позиции. Интересно, в каких это странах «с давними демократическими традициями» политическая ангажированность журналиста презирается? Может быть, в США, где медиа открыто выступали на стороне кандидата в президенты Хиллари Клинтон? Или во Франции, где есть медиа самого широкого спектра — от консервативного до ультралиберального (нет, я даже не про «Шарли Эбдо»)? У журналиста есть все права и обязанности гражданина своей страны. Журналист имеет право на политические предпочтения, которые можно спокойно высказывать в своих соцсетях, но не имеет право злоупотреблять своей маленькой трибуной по месту работы — иначе однажды журналист превратится в Дмитрия Киселева.
Что касается истории с моим участием в организации митинга против реновации, то дело было так. Я всегда стараюсь воздерживаться от участия в любых митингах, кампаниях (кроме благотворительных) и так далее, так как не считаю такую деятельность совместимой с журналистской работой. Ситуация с реновацией затронула конкретно меня, как собственника квартиры в пятиэтажке. Я сразу поставила об этом в курс руководство своей редакции и спросила, можно ли я разово включусь в процесс организации митинга, так как напрямую затронуты мои интересы. Эта история была ограниченной во времени и закончилась 14 мая. Репортаж с того митинга я, разумеется, не делала и на следующий день вернулась к исполнению профессиональных обязанностей.
Есть еще одна проблема, о которой автор умалчивает. Знаменитая фотография «Голод в Судане» принесла фотографу Кевину Картеру Пулитцеровскую премию в 1994 года. На фотографии изображена маленькая девочка, согнувшаяся от голода, и большой кондор, ждущий ее смерти на заднем плане. Фотограф прогнал кондора, но не приложил усилий для спасения девочки. Через несколько месяцев после получения премии он покончил с собой.
Вопрос, где проходит грань, после которой журналист имеет право и даже должен вмешаться в судьбы своих героев, — открытый. Может ли военкор собирать гуманитарную помощь для своих героев, увидев их страдания? Мой личный ответ таков: если жизни и здоровью твоих героев, мирных жителей всерьез что-то угрожает, то убрать пресс-карту в ящик стола на несколько часов или дней для спасения людей можно и даже нужно. А вот поддерживать одну из воюющих сторон журналисту нельзя, это закреплено всеми международными конвенциями. Мы — нонкомбатанты.
Екатерина Винокурова,
журналист